| Главная » Статьи » "Заветное наследство" » Из сборника |
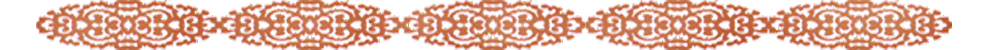
Заветное наследство
| Глава 9. Алёна. Хлебные карточки Девочки перебрались к нам, не разлучались с подружками, ели за одним столом, а в благодарность помогали маме Марии, делая ту же работу, что и для родной матери. До осени мы жили большой, притихшей семьей. Впрочем, такая семья была у нас и раньше. Еще при жизни Зины-Зиночки Алёна и Катя всегда приходили поиграть с моими сестрами, погреться, правда, ночевать уходили к себе, в соседнюю избу. Алёна была красивая, с каштановыми стрижеными волосами, которые чудесной рамкой обрамляли худенькое бескровное лицо. Из-за печальных васильковых глаз да необыкновенной бледности она казалась больной, и взрослые, глядя на нее, скорбно вздыхали. Она переживала и за отца, который воевал с немцами, жалела мать, которая уставала на работе и дома, поэтому с готовностью ходила и за колосками, и в магазин, где выстаивала длинные очереди, чтобы получить по талону хлеб. Под весенним солнцем все дети оживали вместе с растениями, да так до холодов и проводили время на улице, торопя созревание сначала лебеды, затем тутовника, вишни, урюка, яблок и картофеля. Мама где-то разузнала, что ядрышки урюковых косточек можно обменять на подсолнечное масло, вот и просила детей урюк съедать, а косточки не выбрасывать, раскалывать. Когда ядрышек набиралось полное ведро, она несла их на заготовительный пункт, получала бутылку масла и делила на всех соседей. Те благодарили и восхищались ее мудростью: ну, как она узнала про такой обмен? По тем голодным временам пол-литра постного масла была сущей находкой, правда, набрать косточек да наколоть столько ядрышек было непросто. Когда скашивали и убирали зрелую, цвета полуденного солнца, пшеницу, то колхозные поля становились похожими на неровно стриженые мальчишеские головы, и мы ходили за колосками, как на работу. Алёна брала с собой Катю и меня. Срезанные стебли больно ранили босые ноги, но мы даже не замечали этого, ведь надо было искать оставшиеся в рядках колосья, к тому же, прятаться от страшного однорукого объездчика-сторожа. Временами попадалась несчастливая полоса, на которой все колоски были пустыми. Алёна утешала нас и хвалила птиц, которые проснулись раньше нас, потому и успели все склевать. Тут же делилась своим счастьем: бережно растирала один из колосков, легонько сдувала шелуху, и на ладошке оказывались желанные золотые зерна. – Они вкусные-вкусные, – жмурясь от блаженства, она давала нам пяток зернышек, а одно-два клала себе в рот: – Ничего на свете нет вкуснее! Действительно, зёрна были много вкуснее хлеба. Мы радовались, найдя полный колосок, и опускали ей в сумку. – Ого, какие молодцы, настоящие миноискатели, – хвалила нас Алёна. В конце дня "миноискатели” возвращались домой, при этом малышня всю дорогу хныкала и жаловалась на усталость, на боль в ногах, исколотых стерней до крови. Алёна отставала от подружек, шла с нами рядом, советуя идти по траве или по мягкой дорожной пыли, а в утешение открывала сумку с золотистыми колосьями: – Зато вот сколько мы насобирали! Придем домой, разделим зернышки на две семьи, и мамы испекут лепешек. Вкусных-вкусных. И так она аппетитно говорила "вкусных-вкусных”, что мы забывали усталость и невольно глотали слюни. Но лепешки оказывались не такими вкусными, поскольку матери разбавляли муку лебедой и щавелем. Правда, зато всем доставалось по большому куску, и с какой гордостью мы ели, расхаживая около дома! Алёна знала много стихотворений и сказок. Она до войны жила в большом городе, ходила в театральный кружок, вот и решила научить меня рассказывать стихи: где следует понизить голос, где повысить, где на миг затаиться. Мне полюбилось дивное стихотворение о золотой тучке, которая ночевала на груди утеса-великана, и я хотел его запомнить. – "…Но остался влажный след в морщине /Старого утеса, – говорила она и секунду молчала. – Одиноко – снова замирала – /Он стоит, – вновь передышка – задумался глубоко, /И тихонько плачет он в пустыне”. Я смотрел вдаль, на горы, представлял одинокий, в слезах, утес и, не понимая, отчего он плачет, зачарованный музыкой удивительных, окутанных таинственной грустинкой слов, пытался пересказать стихотворение с такими же передышками речи. Ей нравилось учить, и она бесконечно радовалась, когда у меня получалось. Она мечтала стать артисткой. Или учительницей. – Я пока не решила, вот закончится война, придет домой папа, и тогда все вместе мы придумаем. Иногда она рассказывала о городе, о больших домах, которые даже выше вот этих тополей. Я запрокидывал голову к вершинам громадных деревьев, потом смотрел на камышовую крышу нашей хаты и недоумевал: зачем нужен такой высокий дом, ведь в нем и потолок не достанешь. А, – наконец догадывался я, – это, чтобы не видеть на потолке черные пятна от керосиновой лампы! Но свою догадку не высказывал, боясь прервать рассказ. Очень уж мне нравился ее тонкий нежный голосок, и говорила она так певуче, так понятно, так ласково! Когда мы стояли в очереди за хлебом, она рассказывала нам о больших стеклянных магазинах, в которых уместилось бы несколько избушек с крыльцом, куда мы каждый день ходили за хлебом. А мне и наш магазин казался огромным по сравнению с хатой. И когда я смотрел на длинную очередь из печально-угрюмых женщин, стариков и по-взрослому серьезных ребятишек, то представлял многолюдные улицы огромного города, где жила Алёна. Но красивая картина сразу улетучивалась, когда дверь магазина с усилием открывалась, сталкивая передних с крыльца, и все люди, с перекошенными злобой лицами, толкая друг друга и дико крича, лезли внутрь, «прорывались», каждый норовил поскорее оказаться в духмяном и вкусном тепле, а там крепко вцепиться в прилавок и ждать, когда продавщица взвесит полбуханки хлеба да, помедлив, обязательно положит к нему мягкий пахучий кусочек, который уравняет покачивающиеся железные клювики весов. Ох, уж этот довесочек! Он такой соблазнительный, что нет сил донести его домой, не откусив хотя бы разок, а уж если попробовал, то удержаться трудно... …Это случилось на сороковой день после смерти Зины-Зиночки. Утром, как обычно, Алёна принесла из колодца воды и вызвалась пойти за хлебом вместо больной Таси, которая так занозила ногу, что не могла ходить. Мама дала ей талоны, а серую, тряпочную сумку – мне: – Алёна купит хлеб, а ты поможешь нести. Я важно приосанился, даже приподнялся на цыпочки, желая показать, какой большой, а для Алёны сделаю все что угодно и даже никогда не устану. Около магазина в тот раз народу было много и почему-то больше обычного толпилось на крылечке инвалидов, а им хлеб давали без очереди. Две соседских девчонки отозвали Алёну в сторонку и зашушукались. До меня долетали слова "здесь не достанется”, "на станции народу мало”, затем увидел, как Алёна согласно кивнула и подошла ко мне. – Мы пойдем на железнодорожную станцию, там, говорят, очередь меньше. Это далеко, больше трех километров, ты устанешь, поэтому иди домой, я сама принесу хлеб. Устанешь, устанешь, не возражай! Одно дело ходить за колосками, а другое – в магазин, – убеждала она меня. Но я хотел быть с ней и не отдавал сумку: – Мама сказала, чтобы хлеб нёс я. Она снова пошушукалась с девчонками; те насмешливо оглядели меня. – Ну, ладно, ухажер, пойдем, только пошевеливай ногами, – ухмыльнулась конопатая Соня, у которой веснушек было даже больше, чем у Вовки Соломатина. Хихикнула и ее подружка Оля, с потешно торчащими косичками и облупленным от солнца носом. Алёна взяла у меня сумку, положила туда (я сам видел!) свернутый вчетверо зеленый листок – хлебные карточки – и мы пошли. В поле девочки стали радостно отбегать от дороги, срывать красивые красные и синие цветочки. Простор и окружающая красота заставили забыть всё грустное в нынешнем военном времени. Соня глянула на небо и радостно крикнула: – Ой, девочки, смотрите, облако-рыба! – Скажешь – рыба! Это похоже на самовар, – возразила Оля, ревнуя, что не первая заметила необычное облако. – А ты хоть раз видела самовар? – задорно спросила Соня. – Конечно. У нас был, пока не сменяли на картошку. Эти слова опять напомнили о войне, и все опечаленно смолкли. Алёна тоже собирала букет, но почему-то лишь белые ромашки и синие васильки. А я уже устал да еще сбил об камень палец так, что кровянистое пятно покрылось пылью, почернело и смотреть вниз было страшно. Только глянешь, и палец начинал болеть еще сильнее. – Ничего, до свадьбы заживет, – утешала Алёна. – А зато какой мы сейчас на станции получим хлеб! Вкусный-вкусный! И снова эти аппетитные слова – «вкусный-вкусный»; от них забывалась боль и усталость, а рот наполнялся голодной слюной. Девчонки стали наперебой советовать: – Надо приложить подорожник: боль как рукой снимет. Пока я мыл ногу в арыке, они принесли жестких широких листьев, обмотали палец, а Алёна порылась в сумке, оторвала с изнанки нитку и ловко все завязала. Боль утихла, но идти на пятке было неудобно, поскольку приходилось изо всех сил оттопыривать носок, оберегая рану от пыли. А вскоре я заслушался нежным голосом Алёны – она рассказывала мое любимое стихотворение про тучку золотую – и не заметил, как листок оторвался. Алёна сбежала с дороги, следом за ней подружки, все опять принесли ворох листьев; один привязали, а остальные положили в сумку. Потом мы еще сколько-то раз останавливались, вынимали подорожник и привязывали к пальцу. Тем временем девчонки ушли далеко вперед, их уже почти не было видно. Я испугался, что без них мы заблудимся, поэтому стал хромать бегом, но Алёна запретила торопиться, видимо, ей нравилось быть доктором и "лечить” меня. Чтобы не отстать еще больше, я твердо отказался от очередной "перевязки”. – А листья можно выбросить, – я храбро подрыгал ногой, как будто рана зажила. Боль и вправду стихала, если не смотреть на палец, и мы припустили за девчонками. Но их не догнать. Стоило подумать об этом – вдруг начинал ныть палец и наваливалась усталость. Я опять захромал, однако Алёна подбодрила меня: – Я дорогу знаю и без них. Видишь, домики и деревья? Это станция. А когда перейдем рельсы, надо повернуть направо, а там до магазина – рукой подать. Ее слова и нежный ласковый голос подняли настроение. Тут я приметил за канавой красный тюльпан и захотел сорвать ей в букет: – А то у тебя одни белые и голубые. Но Алёна вдруг помрачнела и тихо сказала: – Не трать силы, кроме того, красный цветок ни к чему. Ведь это для мамы… на могилку. Сразу вспомнились недавние похороны Зины-Зиночки. А около могилы Алёна так отчаянно вцепилась в гроб, что все женщины, будто по команде, зарыдали и насилу оттащили ее… Думать об этом было неприятно, даже грустно, и дальше мы пошли молча. У железнодорожной линии нам встретились девчонки. Они уже возвращались с хлебом, а рядом с ними шла мать конопатой Сони, высокая и худощавая тетя Ксеня. Видимо, она пустила девочек в свою очередь, поэтому так быстро удалось им получить. Но тут мое внимание привлек мощный гудок. Я зачарованно стал смотреть на приближающийся огромный паровоз и представлял его седым сказочным конем. И впрямь, пар у него, будто длинная густая шерсть свисал, стелился по земле, скрывая ноги-колеса, а поверху развевалась буйная грива черного дыма. Тем временем Алёна пошарила в сумке и стала мертвенно-бледная. – Карточки! Ой, где наши карточки? – она сунула букет мне, а сама перевернула сумку и потрясла. Выпал сморщенный, увядший лист подорожника и – всё. Для верности она заглянула снизу в распахнутую сумку, пошарила там рукой и растерянно оглядела всех: – Ой, что же будет? Ведь теперь целый месяц без хлеба! – Не отчаивайся так сильно-то, – успокоила тетя Ксеня. – Найдутся. Может, забыла дома? – Нет, я помню, тетя Мария дала мне, и я спрятала их в сумку, они такие зеленые. – Ага, я видел: ты их еще свернула и положила в сумку, – пришел я на выручку. Ах, ну зачем я вмешался? Это вылетело нечаянно, как тот камень, который насмерть ушиб воробышка. – Да? – невидяще посмотрела она на меня. – Ой, что же теперь будет? – со слезами вскрикнула и вдруг помчалась к рельсам, блестящим, как ножи. Никто не успел опомниться. Паровоз дико заревел, упираясь в землю бугристыми белыми копытами. Но ни гудок, ни струя пара не могли остановить этого мощного коня. Я зажал уши и закрыл глаза. Я не хотел видеть эту страшную картину, не хотел слышать истошный крик тети Ксени, вопли девчонок… Когда окровавленные части тела куда-то увезли, а машинист с пацаном-кочегаром присыпали на шпалах черно-красные пятна пылью, мы пошли домой. Я не мог удержаться и со страхом оглядывался на этот проклятый переезд, который казался зловещим и пустынным. А тетя Ксеня, чтобы отвлечь нас, дала всем по ломтику черного и тяжелого, как камень, хлеба и стала рассказывать о своей работе на машзаводе. Всхлипывая, затолкал я кусочек в рот, но проглотить не мог. Он не был вкусным-вкусным, как обещала Алёна. Он был горьким и соленым. Я шел за девчонками и сильно хромал, чтобы думали, что плачу от боли. Дома я протянул Кате сине-белый букет, вспомнил рев паровоза, всплеск выцветшего платьица под колесами и зарыдал. А она смотрела на мою ногу и думала, что у меня болит палец. | |
| Категория: Из сборника | Добавил: BorisMorozov (03.01.2013) | |
| Просмотров: 506 | Рейтинг: 0.0/0 |
| Всего комментариев: 0 | |